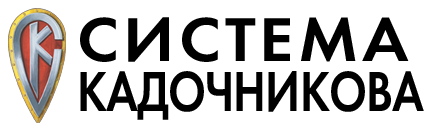
Материалы, посвященные 90-летию со дня рождения Алексея Алексеевича Кадочникова
Содержание:
Документальный фильм «Бой без правил»
посвящается 90-летию со дня рождения Алексея Алексеевича Кадочникова
Интервью с Алексеем Алексеевичем Кадочниковым
20 июля 2025 года исполняется 90 лет со дня рождения создателя авторского стиля, теоретика, практика и учителя русского рукопашного боя – Алексея Алексеевича Кадочникова.
Кадочников — грандиозный русский человек. Он сам собрал черепки и осколки, которые сложил в мозаику теории и практики боевого искусства, он держал волнорез, о который разбивались грозные, страшные волны новых времён — смертельно разрушительных, подло вероломных.
Кадочникова порой упрекают в том, что он консервативен, что он не привнёс в мир боевых искусств новых веяний, что он не создал собственной школы.
Это жалкий лживый лепет завистников.
Новаторство Кадочникова заключается в том, что в тот кромешный век, когда всё боевое искусство превратилось в искусство разбоя, рейдерства, террора, в орудие надругательства над русскими святынями, над гуманизмом наших философов, он оставался верен красоте, правде, возвышенности русской культуры и русского боевого искусства. Это подвиг, который возможен только при абсолютно новом, модернистском, страстном, авангардном подходе к боевому искусству, действующему в условиях реального, актуального времени. В данном случае — во времена очередного русского возрождения.
Алексея Алексеевича, несмотря на его активную общественную, научную и педагогическую деятельность, трудно отнести к публичным медийным личностям. Тем интереснее будет для читателей запись беседы Алексея Алексеевича Кадочникова с одним из его соратников – Бедновым Владимиром Сергеевичем.
Мы знакомы с Мастером не первый год. Такое впечатление, что с течением времени он не меняется. На протяжении многих лет Алексей Алексеевич предстаёт в виде благообразного пожилого интеллигентного мужчины в хорошей физической форме. Никакой небрежности ни в одежде, ни в поведении. Всегда в костюме с галстуком, всегда готов и к официальной встрече в казённом доме, и к дружеской посиделке, и к рукопашной схватке.
Он добр, отзывчив, внимателен, бескорыстен. Его затаившиеся завистливые недруги опасаются вступать с ним в открытую полемику: может припечатать и словом, и взглядом. Между тем высоко ценимая им тайная свобода не раз подвергалась жестоким испытаниям. И всё равно его всегда отличало интеллектуальное благородство.
Кто он? Какое определение подошло бы к нему без натяжки и без лукавства?
Полагаем, что к нему подходит звание учёного воина. Хорошего бойца в нём можно узнать по одному жесту, как хорошего поэта – по одной строфе.
27 октября 2000 года. Планета Земля. Страна Россия, город Краснодар, КВВКИУ ракетных войск. Рабочий кабинет Алексея Алексеевича Кадочникова, создателя Русского стиля рукопашного боя.
– Беднов В.С. (далее - БВС): Алексей Алексеевич, добрый день! Спасибо, что при всей своей занятости вы выделили время для нашей встречи. И снова мы будем возвращаться к тем же вопросам, которые сопровождают вас на всем протяжении творческого пути. И я надеюсь, что Алексей Алексеевич Кадочников сейчас нам расскажет что-то новое о том, почему он занялся русским рукопашным боем.
– Кадочников А.А. (далее КАА): Ну, тогда я буду давать те же ответы, потому что я всегда старался отвечать на все вопросы искренне и правдиво. И другой правды у меня для вас не будет.
– БВС: Тогда мне остаётся только, следуя завету Пастернака, «достать чернил и плакать» и, разумеется, «слагать стихи навзрыд».
– КАА: Зачем же так грустно? Вы можете ничего не спрашивать, «не тратить чернила и не плакать».
– БВС: Вот и договорились. Расскажите, с чего всё началось.
– КАА: Хорошо. Только я хочу сделать небольшую оговорочку. Человек, гражданин своего государства, которому он хочет быть полезен, не может по своему произволу заниматься чем попало. Он должен прилагать свои силы к тому, что государству необходимо, чего государство ждёт именно от него.
Я сейчас попробовал просмотреть несколько своих записей для учебной программы, что касается рукопашного боя в системе подготовительного этапа молодёжи к службе в Вооружённых силах Российской Федерации.
В них я сделал некоторые свои замечания. Особо отметил высказывание А.В. Суворова: «Без верного (веры) войско учить, равносильно что перегорелое железо точить». И вот я из этих слов выделю, так сказать, обоснование, которое считаю необходимым.
Есть Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» (с изменениями и дополнениями).
На этом основании мы можем и уже своё что-то подготовить. Как я считаю, что надо, во-первых, разработать проект технического задания, само техническое задание, потом общую программу, частные программы для подготовки конкретных людей, которых мы уже подобрали для непосредственной работы.
И в этой программе необходимо указать, какую литературу брать, и комплексно просчитать, что мы берём и рассматриваем для рукопашного боя, что можно также взять из программ гражданской обороны, ОБЖ и «Программы восстановления и развития Чернобыля».
Провести изыскание научно-технических путей создания средств и способов эффективного осуществления принципов, формирование и развитие действий у человека в особых условиях.
Вот такую формулировку я рассматриваю уже в самой работе, которую мы ведём и уже непосредственно формируем основу программы.
Мы рассматриваем человека как психобиомеханическую систему, на которую мы накладываем требования и для которой техника безопасности имеется уже в самой нашей жизни.
Живучесть в нашем понимании является способностью противостоять различным воздействиям при повреждении, способность сохранять или восстанавливать полностью или частично свои боевые качества, вот то, что у нас и является основой для того, чтобы убрать тот травматизм, который нас преследует на сегодняшний день, исходя из того, что у нас 10% считаются относительно здоровыми людьми, 30% – больными, а 60% – безнадёжно больными.
Исходя вот из такого вот представленного материала или замечаний можно сказать, что человек нуждается в определённой помощи и подготовке его к жизни в государстве.
Итак, у меня всё, как и у всех, началось с детства.
Почему я занялся рукопашным боем? Наверное, каждый человек чем-то увлекался, занимался с детства.
Прыгал, бегал, учился, делал макеты, самолёты…
Как любому ребёнку, мне приходилось сталкиваться и с вывихами своих каких-то суставов ног, рук, что отражалось на общем здоровье, конечно, потом уже все это заставляло задуматься. Поэтому, встречаясь с ними, чувствовал, что появлялись ограничения в каких-то действиях.
А когда пришла война, почувствовал свою неспособность защитить, прокормить и согреть себя.
Ну и война в возрасте шести лет коснулась настолько серьёзно, что приходилось жить в самолётном ящике, в окопах, даже между ног у лошади, которая согревала. Довелось рано прочувствовать свою неподготовленность к преодолению трудностей. И царапины от колючек, и честно заработанные синяки, и вывих какого-то сустава помогли мне раньше задуматься о том, как можно помочь себе.
Йода боялся, врачей боялся, как все дети, и старался избегать, но, когда болел, родители принимали меры, лечили.
Ну и во время войны, когда тебе 5-6 лет, было чего бояться. И я там просто очень сильно боялся. Этот страх своё наработал и натолкнул меня на некоторые конструктивные мысли.
Наблюдая за всем, что происходило вокруг, пришёл к выводу, что надо обязательно иметь у себя какие-то возможности, какие-то рычаги, приобрести какие-то способности. Они требовали определённых знаний, а знания получать было негде. И пришлось собирать самому по крохам: что скажут старики, что скажут старшие, что скажут дети, с которыми жил, играл, общался… Вот таким образом по крохам оно – это знание - собиралось. Выстроить какую-то последовательность приобретения знаний и навыков так же трудно, как и вспомнить, когда и как это произошло.
Просто вспоминается тот период жизни, который заставил явственно осознать то, что ты ничего не можешь, но должен всему научиться.
Просил оружие, но никто ребёнку, конечно, не давал. И исходить приходилось из того, что у тебя было под рукой и наработано.
Вот такой родник – исток всего.
Этот родник перерос в ручей школьных лет, в течение которых я сменил 28 школ. Менялись и места учёбы, и места проживания, и условия жизни, порой ютились в каких-то «медвежьих углах», как семья офицера. Все эти перемены давались с большими трудностями.
Школьная жизнь мне очень много дала, не только потому, что несла свет систематизированных знаний, но и дарила новые знакомства, и новые интересы и увлечения, и жизненный опыт за счёт своей шкуры или за счёт своего языка и навыков пацанской дипломатии. А уж там, где дипломатия не помогала, в ход пускались уже ноги или руки, или и то и другое.
А потом уже появились книги для самостоятельного чтения. Первой книгой, которая меня полностью захватила, стал роман «Как закалялась сталь». Мало кто помнит, что в этом романе Н.А. Островский хорошо и красочно рассказал, как Жухрай учил Павку премудростям бокса.
Этот литературный бокс настолько впечатлил и врезался в память, что, можно сказать, с него-то и началось моё постижение искусства рукопашного боя.
– БВС: Кто вам помогал?
С того момента, как я начал интересоваться боевым искусством и до начала обучения в школе, в области теории и практики выживания никто вот так прямо мне не помогал. Я сам бегал и искал у кого чему поучиться.
В раннем детстве, естественно, моими главными учителями и помощниками были родители и дедушка Василий Захарович. Вот его бы я и назвал генеральным продюсером моего основного занятия, которое складывалось не за одну секунду – всю жизнь. И да, на этом пути встречались люди, которые вносили правки в мои воззрения и подавали мне личный пример действий. И я все передумывал и перерабатывал по сто тысяч раз, пока вдруг само не получалось.
Ну а потом как-то произошла судьбоносная встреча с одним из старших товарищей, который прошёл хорошую специальную подготовку – это Хабиев Юрий Григорьевич или Георгиевич, я уже отчество не помню, но только помню, что он был горец, его национальность тоже не помню (скорее всего – осетин), но он обратил на меня внимание и, можно сказать, подчистил некоторые мои недостатки, которые, на его взгляд, действительно присутствовали.
Почему он выбрал меня? Видно, я среди детей выделялся чем-то, и он решил сделать ставку на меня.
– БВС: Он кто был?
– КАА: Он был ранее подполковником милиции, но его за одну операцию уволили, посадили, потом реабилитировали, и он стал преподавать в школе черчение.
И, используя свой опыт, он убедил меня, что у меня есть какие-то задатки, которые как-то выделяют меня из общей массы школьников. И мы с ним сошлись и по характеру, и по каким-то известным только ему критериям. Видимо, я кого-то ему напоминал. Таким образом у нас сложился какой-то определённый союз и мы, значит, стали заниматься.
– БВС: Вы в каком классе учились в то время? Примерно?
– КАА: В каком классе? Это был где-то шестой, седьмой или восьмой, да, эти вот классы. И, значит, учитель наложил на моё формирование свой отпечаток, где немножко рассказал мне и про криминалистику, и про баллистику. И вот подсказал нужные упражнения для серьёзной физической подготовки, в частности, бег, прыжки и падения.
Скорее всего, он сам когда-то прошёл серьёзную школу обучения, знаниями и навыками из которой он решил поделиться со мной.
И всё-таки первым классом моей боевой подготовки были предшествующие несистемные схватки.
Когда я проходил 28 своих школ, вот тут всё и начиналось, всё было. Ребята разные, по-разному подходили, по-разному встречали, но когда уже сходили синяки после этих знакомств, ребята оказывались хорошими. Мирные знакомства были редкими. Чаще, конечно, случались серьёзные проверки - в основном в форме хороших драк. И меньше трёх-четырёх не нападали.
Эти групповые стычки позволяли мне лучше почувствовать пространство и источники угроз. Я думаю, время учёбы (где-то по 1942 г.) в интернате наложило свой отпечаток.
Дальнейшее обучение в средней школе оказалось гораздо проще, потому что у меня сформировались практические боевые навыки и те, кого провоцировала моя внешняя тщедушность, вместо лёгкой победы получали горькие воспоминания.
– БВС: Алексей Алексеевич, а правда ли, что вы человек без возраста?
– КАА: Хотел бы так сказать. Но, когда видишь себя рядом со своими сверстниками, становится грустно и немного страшно. Время весьма безжалостный диктатор. Самый! И те, кто пытается обмануть время, остаются в дураках, у них никогда ничего не получается.
– БВС: А когда человек вступает в сознательный возраст?
– КАА: Когда у него появляется чувство личной ответственности хотя бы за себя. Многие до старости так и живут детьми, что не всегда плохо, потому что взрослость при бытовых плюсах имеет душевные минусы. Когда душа растёт, человек часто не понимает, где грань между взрослением души и её старением.
– БВС: А вы когда повзрослели?
– КАА: В шесть лет, когда началась война. Я из той категории людей, которые с трудом могут назвать детство счастливым временем. Хоть было и немало счастливых мгновений.
– БВС: Вы уже упоминали о семье. А вы для себя как определяете приоритеты? Семья или карьера?
– КАА: К счастью, умная судьба мне таких глупых вопросов не задавала. А если б такое случилось, выбор, несомненно, был бы в пользу семьи. А на заданный вопрос я бы ответил: всё главное, всё в приоритете и мне всё необходимо. Тем более, что это вещи несравнимые: они существуют в разных плоскостях, в разных жизненных нишах. Нет, для меня очень важно, конечно, то, чем я занимаюсь, так сказать, дело всей жизни: с детства я им занимаюсь и до сих пор мне это очень нравится. Мне это интересно, и, конечно, я бы очень хотел как можно дольше этим заниматься.
Но есть вещи гораздо более важные для человека, если он не считает себя лишь живым механизмом «без роду, без племени». Семью никто не отменял, и ничто ни превзойти, ни заменить её не сможет.
Я ведь и живу, и работаю ради семьи.
Я верю в своё предназначение. Его надо выполнять. И вся семья моя так считает. Потому что один бы я, наверное, не выдержал такой работы, а они меня поддерживают.
– БВС: Вы начали говорить о старших поколениях Кадочниковых, может быть, вернёмся к ним? Хотелось бы узнать подробнее о бабушках и дедушках, о родителях. Где они жили в России, чем занимались?
– КАА: Я знаю, что мои родственники по отцу жили в Челябинской области, в селе Багаряк. Отец там родился в 1911 году. Кадочниковых там много.
Дедушка, Василий Захарович Кадочников, был старше бабушки лет на шестнадцать. Бабушку звали Нина, отчества и фамилии не помню. Знаю только, что она имела младшую сестру Марию. Мария она тоже из этого села.
Она была замужем за красным командиром по фамилии Теплых, больше о нём я ничего не знаю. А казаки, видимо, что-то знали, потому что во время Гражданской войны они Марию задержали, избили и бросили бездыханную куда-то в снег вдали от жилья. Это явилось причиной её бесплодности. После всего этого Мария стала активной большевичкой, выдвигалась на ответственные партийные посты районного уровня. И по административной линии занимала руководящие должности, была каким-то большим начальником в Казани.
Помню, когда маленьким ещё привозили и через Волгу мы переправлялись на лодках. И Казань помню, как мы только выходили из лодки, всегда попадали на маленький такой базарчик на берегу реки.
С особой гордостью вспоминаю моего дедушку.
Дед, Василий Захарович Кадочников, был хорош во всём: и в труде, и в бою.
Служил хорошо. В Первую мировую был ранен, стал кавалером всех «Георгиев» (имеется в виду высшая солдатская награда – Георгиевский крест всех четырех степеней. – Прим. БВС)
А в мирное время был очень хорошим плотником - его называли краснодеревщиком.
За его золотые руки его приглашали даже ремонтировать самолёты.
Его сын Алексей, мой отец, окончил авиационное училище, сейчас уже и не вспомню какое. Оказавшись каким-то чудом в Москве, женился на моей матери и забрал её с собой в Одессу по делам службы.
Вот так мне и довелось родиться в Одессе.
Международная обстановка и командование авиационной части тогда требовали от жён командного состава изучения многих специальностей двойного назначения: каждая из них должна была быть и медсестрой, и метеорологом, и синоптиком, а умение готовить пищу подразумевалось само собой. Мама к тому же была инструктором парашютного дела и могла управлять самолётом, если понадобится.
Дедушка Василий Захарович долгое время сопровождал нас: из Одессы мы переехали в Конотоп, из Конотопа – прибыли сюда, в Краснодар, в военное авиационное училище лётчиков. Здесь, во втором из четырёх служебных домов, мы жили в квартире на втором этаже. Отец служил во второй эскадрилье, которая базировалась в Пластуновской. Первая эскадрилья стояла там, где сейчас у нас вот этот самый гражданский аэропорт, вторая эскадрилья - в Пластуновской, а третья - в Кореновской. Так их война и застала.
Но почему-то отец часто бывал в Краснодаре (использовал для этого любую возможность).
Краснодар притягивал нашу родню. Сюда подтянулась и тётя Лёля, это сестра моей родной бабушки, как и Мария, которая приехала ещё раньше, город ей понравился, и она уже успешно работала здесь, в Краснодаре.
Тут нас всех и настигла война. Мать защищала как раз вот этот самый аэродром первой эскадрильи. Самолёты перебрасывались на тыловые аэродромы, а те, которые не могли взлететь, грузили на платформы и увозили туда же. Все, кто мог, тоже убывали этими составами в Саратовскую область, в город Пугачёв на Иргизе.
Справка: Пугачёв — город в Саратовской области России, расположенный на притоке Волги – реке Большой Иргиз – в 246 километрах к северо-востоку от Саратова, административного центра области.
Мы с мамой последними уходили из Краснодара туда же, в Пугачёв, к отцу, добирались через последнюю Пашковскую переправу.
Справка: Под мостом в Пашковском микрорайоне была Пашковская понтонная переправа. К августу 1942-го она единственная сохранилась из четырёх мостов через Кубань. Именно по ней из Краснодара вывозились ценности, и по ней же уходили беженцы. Она не давала немцам занять плацдарм на левом берегу реки.
Где-то здесь встретили двоюродного брата, как мать говорила. Я не помню его имени, помню только водителя, командира той части, с которой мы уходили: это был Шкуринский или Шкуро (?), кажется, Николай, который якобы жил раньше в Пашковской. Да, и ещё помню, что майор Долидзе был замполитом.
Справка: Майор Александр Михайлович Долидзе 25.12.1908 г. рождения служил в 15 отдельном батальоне ВНОС (Войска воздушного наблюдения оповещения и связи) — собирательное название воинских формирований, являвшихся составной частью войск противовоздушной обороны (войск ПВО).
И вот мы прибыли в Горячий Ключ. Там, в штабе, сделали какую-то нужную отметку и отдали приказ. Согласно этому приказу, мы мелкими группами просачивались в Грузию. Днём мы отсиживались, скрываясь от огня противника, а ночью потихоньку продвигались. Так мы через Хадыжи добрались до Грузии, там я подхватил малярию, в этот период сталкивались с немецким десантом, были даже в окружении. Десант немец выбрасывал, потому что пути через Волчьи Ворота полностью заняли наши войска, и нас спустили через Хадыжи и перевал Шаумяна, где немцы нас и поджидали.
Я очень хорошо запомнил перевал Шаумяна визуально, потому что на этом маршруте у нас происходили все смертельно опасные приключения, все вот эти вот казусы: и окружение, и бомбёжка.
Мы прорвались в Грузию, жили там в танковой бригаде.
Как только немца выбили из Краснодара, мы вернулись в «стоквартирку», вот в этот «Дом Покрышкина». Здесь я жил на четвёртом этаже в 58 квартире, ходил в восьмую школу имени Героев Игнатовых.
Справка: Краснодарцы-партизаны Евгений и Геннадий Игнатовы 10 октября 1942 года подорвали себя вместе с поездом, перевозившим технику и живую силу нацистов в Новороссийск. Историки считают их операцию одним из знаковых событий Великой Отечественной войны на Кубани, помешавших нацистам вторгнуться в Закавказье.
Так как меня учили не драться, я никого не обижал, а меня обижали все.
И вот те офицеры, которые приходили меня навещать, видели, что меня даже девчонки бьют.
Эти товарищи пообещали мне подарить ножичек с наборной ручкой, если я побью хоть одну девчонку. Ну, выходило несколько раз, они меня всё равно лупили. Помню только одну звали там Гильдой - «селёдка», она, видать, не русская. Вот её я долго не мог побить, потом проходит время, я побил одну девчонку, такую, намного моложе себя, потом другую, покрупнее, а потом побил и эту «селёдку». С этого и пошло. ПришЁл дух победителя, то есть я уже потом мог за себя постоять.
С этого времени школьные годы уже пошли нормально. В подвал я нырял с одного маха, то есть уже мог преодолевать некоторые препятствия. Забор в мединституте мог с одного маха осилить. Он выше двух метров высотой, выше вот этой двери. Я вот на него сейчас смотрю, думаю, мне для его преодоления потребуется сегодня использовать некоторые специальные навыки.
Тогда я по пожарной лестнице лазил уже хорошо и с четвёртого этажа вылезал на крышу. Но тут уже, конечно, просто почувствовал возможности свои.
Было тяжело с хлебом и другими продуктами питания. И чтобы хоть кусочек хлеба как-то заполучить, нужно было у людей или у ребятишек выманить (просить было стыдно). Я обращался к нужному человеку с вызовом: давай сделаем то-то и то-то, зная, что никто, кроме меня, этого не сделает (залезть на дерево, преодолеть какое-то препятствие), делал ставку на то, где победителя ждал полезный выигрыш.
А выигрыш был на моей стороне. И вот таким образом я иной раз, когда оставался один (мать то в больнице лежала, то была занята работой), добывал себе пропитание. Так совмещались мелкие детские шалости с интересами желудка. Бывало, где-то яблоко поднимешь, где-то голову селёдки найдёшь, и появлялись знания, какую траву или иные дары природы можно есть – жизнь и нужда подсказывали. И эти знания открывались не эпизодически ситуационно, а систематически.
При этом я уже конкретно смотрел дальше: что может быть отравлено или испорчено, так как во время нашего пребывания в Грузии командиры предупреждали детей: не берите какие-то предметы или игрушки, не соблазняйтесь ни на что.
То есть вот здесь военная обстановка уже наложила такой отпечаток на нашу жизнь, такие ограничения, которые потом в дальнейшем только ужесточались, требуя от нас бдительности и внимательности, осторожности и предупредительности.
Таким образом я с самого детства впитывал знания по добыванию пищи и поиску укрытий, отмечал, как от дождя укрыться, как тепло сохранить, как огонь добыть. Ведь у нас, случалось, даже спичек не было. Семьи военных порой для добывания открытого огня использовали электричество. Например, способом электросварки: брали два карандаша, подсоединяли к электропроводу, чиркали и зажигали растопку.
Некоторые делали и использовали даже спираль: сами накручивали провода на кирпич и сооружали электроплитку. Всё как-то само приходило, вроде никто ничему не учил, а, пройдя тот жизненный отрезок времени, обретал какие-то знания и умения. Помню, сидишь в школе на уроке и раз – голова упала на парту от голода. Ну и вызывают мать.
Потом даже военные товарищи привезут что-то с рыбалки, упадёт где-то рыбка, поднимешь её, якобы для контроля, а сам несёшь домой, чтобы съесть. А когда были в Грузии, там в основном мука была кукурузная, а я её не принимал, не потому, что капризничал, а потому что организм мой, видно, не был тогда приспособлен к этому продукту. Когда мы вернулись в Краснодар, в сорок третьем году, тут было, конечно, трудно.
Буханка хлеба сто рублей стоила, и другие продукты питания не были легко доступными, но уже было проще, я уже приспособился есть вот эту кукурузную кашу. Приём пищи был не регулярным, а случайным: то удавалось рыбкой разжиться - уху ели, там ещё что-то попадалось, мать работала на вареневарочном заводе, я туда к ней приду или она меня туда возьмет – вот была радость!
Я сижу, немец летает, бомбит наш город или ТЭЦ, а крыши нету. И все заводы работали, то есть всё было, как у всех, ничего особенного в нашей жизни не было. Как и у всех прочих. Нас не обходили стороной болезни: все детские болезни, какие только были, я перенёс, потом и взрослые болячки пошли – от простой простуды до малярии. Заболел я там, в Грузии, тропической малярией, оглох от хинина, акрихина там, все что было, тут все это не передашь.
Интересный момент: когда мы из окружения выходили, мне снарядным осколком вот так срезало чубчик, мать смотрит, говорит: «Это невероятно!» Другой раз осколок срезал булавку, которая скрепляла майку внизу между ногами. Одежды у меня почти что не было, и эта майка заменяла комплект нижнего белья. Осколок срезал эту булавку, что тут скажешь? Спасибо, что пощадил всё остальное, что между ногами.
– БВС: Алексей Алексеевич, а какие у вас отношения с авиацией?
– КАА: С авиацией я связан с рождения через отца лётчика. А вообще я хотел кавалеристом быть, казаком. Но авиация не отпускала.
– БВС: Ничего, Алексей Алексеевич, все мы лётчики в душе.
– КАА: Я хотел всё: и летать на самолётах, и прыгать с парашютом. Мать меня не пускала к прыжкам, никак не пускала. Решил делать сам. Я начал рассчитывать конструкцию из фанеры.
– БВС: Сами хотели построить?
– КАА: Да.
– БВС: Но раньше же были и планеры, и дирижабли, и прочее.
– КАА: Нет, я делал крыло. То есть я планер не мог построить, не было возможности. Я хотел построить и подводную лодку, и корабли, и плоты. Я думал и считал. Я взял лист фанеры. Ограничение сделал, а тут поставил вот такие вот палки, стойки (чертит схему).
Значит, здесь сделал тяги, ограничение, чтобы оно туда-сюда не пошло, значит, на небольшой угол.
И здесь тоже. А здесь сделал вот эту самую подвеску, на которой бы я мог сидеть. Вот это я так вот сделал.
Здесь ограничение, чтобы она меня сразу не перевернула, так сказать. А тут вот я держал в руках. И на этом чуде я сколько-то метров пролетел, метров, наверное, тридцать с горы. Вот как воздушный змей, только без верёвки. Да, только без верёвки. Ну, мать, опытный боец ПВО, этот полёт перехватила, меня наказала, конструкцию поломала и совершенствовать не позволила.
И позже, когда я уже свою армейскую службу закончил, достал брошюрку по летательным аппаратам, которая вышла в Германии, Франции и Англии, а у нас перепечатана. Они там приводили в пример конструкцию летающего крыла. Как оно там сейчас называется, не помню, не скажу…
– БВС: Дельтаплан.
– КАА: Да, дельтаплан. Я посчитал: по площади размеры у меня с ними сходятся, значит, я примерно на 16 лет опередил наших западноевропейских коллег! То есть как конструктор я этот вопрос решил. И если бы мать мне не навредила, то я бы, конечно, и изделие довёл бы до ума.
Может быть, и кости где-то поломал бы себе или ещё кому-нибудь, но, тем не менее, вот эти мои мечты уложились где-то в 30 метров, которые я пролетел. Они просто меня убедили в том, что я действительно могу этот момент осуществить в полётах.
Вот так я решил вопрос с летательным аппаратом, а чуть позже наземную парашютную подготовку я прошёл. Прошёл, а мать меня на прыжки не пустила. Но, пройдя вот подготовку уже в аэроклубе на ПО-2…
– БВС: Аэроклуб краснодарский был?
– КАА: Нет, это был ставропольский. Пройдя подготовку на этом самолёте, я уже 36 часов налетал и этим полностью завершил программу, которая была предусмотрена. Интерес к авиации у меня был большой, очень большой, как вы говорите. Семья такая, традиции, я хотел их просто продолжать. Но бодливой корове Бог рог не дал, поэтому у меня это поломалось. Здесь я параллельно, можно сказать, занимался радиотехникой - приёмниками, передатчиками.
– БВС: Все сами? Берёте литературу, ищете детали? Как это получилось?
– КАА: Мой друг, это сосед по 100-квартирке, подарил мне на день рождения телефон, конструктор телефона, но я в нём так и не разобрался. Не помню, в каком классе я был. Но помню, так у меня ничего не получилось, и сожаление о том, что я не смог сделать, было большое. Я очень сильно мечтал сделать приёмник. И потом как-то получилось, что я сделал приёмник.
Мать работала в газонефтеразведке. Там у них был электрик Николай, фамилии его не помню, он когда-то работал преподавателем в университете по электротехнике, грамотный парень, значит, даже, кажется, какой-то остепенённый, но он был глухой. И по состоянию здоровья стал работать в газонефтеразведке аккумуляторщиком, где слух не очень нужен. Он меня натолкнул на это занятие - нарисовал мне, как сделать детекторный радиоприёмник, и с этого я и начал.
– БВС: А где детекторы взяли?
– КАА: Всё делал сам, как Гален. Брал серу, свинец. Это уже плавил, чтобы получить кристаллы галенита (сульфид свинца) – основу изготовления необходимого галенового детектора.
Справка: Гален - древнеримский медик, хирург и философ греческого происхождения. Внёс весомый вклад в понимание многих научных дисциплин, включая анатомию, физиологию, патологию, фармакологию и неврологию, а также философию и логику. Его теории доминировали в европейской медицине в течение 1300 лет. Его анатомией, основанной на диссекции обезьян и свиней, пользовались до появления в 1543 году труда «О строении человеческого тела» Андреаса Везалия. Его теория кровообращения просуществовала до 1628 года, когда Уильям Гарвей опубликовал свой труд «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных», в котором дал описание роли сердца в кровообращении. Студенты-медики изучали Галена до XIX века включительно. Его теория о том, что мозг контролирует движения при помощи нервной системы, актуальна и сегодня.
– БВС: Кололи?
– КАА: Колол. Вот. И потом искал экспериментальным путём нужные пропорции такие, такие, такие. В общем, это и проволочкой там вытыкал. Потом брал я бритвочку - и грифелем карандаша тоже выискивал нужную точку. То есть все вопросы эти проходил, ну, знаете.
– БВС: Да, я это знаю.
– КАА: Это запойное дело такое, в хорошем смысле. Рассчитывал, рассчитывал катушки, потом не было каких-то конденсаторов. Я вместо этих конденсаторов банки брал, вставлял их одну в другую. Так я добивался нужной ёмкости. А потом научился делать вариометры, катушки. Потом где-то в «Пионерской правде», кажется, была схема усилителя на лампе.
Я его сделал, а потом, значит, я уже отошёл от детектора, сделал гридлик, то есть сопротивление-конденсатор поставил на управляющую сетку лампы 2К2М. Поставил её, значит, запитал, чтобы она была и детектором, и усилителем.
Это у меня первый такой вот был приёмничек, уже от детекторного оторвался и начал собирать двухламповый, потом с усилителем первым 1w1, и потом уже пошёл супергетеродин, и тогда уже познакомился со смесителями, с гептод-преобразователями, и тогда уже потянуло к двойным преобразователям, уже хотел похулиганить немножко. Ну, здесь у меня получилось, собираю приёмопередатчик, начинаю с ребятами связываться, хоть и побаиваюсь.
– БВС: На средних волнах?
– КАА: Да, на средних волнах. Ну, в школе так это самое все это у меня сходило. Значит, работу продолжаю в кружках. Кружки веду сам, мне дают теперь авиамодельный, потому что я уже это сам постиг, так сказать, профессор. У меня тут разворачивается возможность для дальнейшего творчества. Подводные лодки я тоже делал, но ими не сильно увлёкся.
А вот самолёты, вот эти летающие с резиномоторчиками, эти делал. На бензиновый у меня не хватило денег. А вот это всё сам вырезал, всё делал, и этим увлёкся, и пошёл двумя направлениями: радио и вот это авиамодельное. И эти направления привели меня туда, куда мне нужно было или куда я хотел, поступив в Харьковское высшее военное авиационное училище радиоэлектроники.
Желающих учиться в этом вузе было много, отбор был строгий. Меня вместе с шестью моими товарищами отобрали, одного по языку отобрали, хорошо знал язык, меня отобрали за то, что у меня была вот эта подготовка, я кое в чём разбирался, несмотря на молодость своих лет, а другие – просто толковые ребята были или ещё что-то, я сейчас уже не помню.
И вот нас шестерых забросили в определённое направление морской авиации, познакомился уже и с акваторией, где я уже прошёл морскую практику, подготовку. Ну, а потом, когда уже работал на спасательной станции, меня приобщили к дополнительному углубленному изучению ещё и водолазной техники и прочих премудростей. Там же я прошёл подготовку по борьбе под водой. Я к этому был уже готов и физически, и морально.
На меня обратили своё профессиональное внимание товарищи из силовых структур и предложили продолжить подготовку у них. Я был на всё согласен. И отсюда у меня вот эти самые выросли наши силовые направления, которые сейчас уже преумножились, вот и уже отметили где-то пятнадцатилетие, уже значок дали. Собирались уже второй раз мы и на 16 лет, но первое запомнилось лучше, потому что обставили хорошо.
Сопрунов там был, с которым у меня сложились дружеские отношения. Он был ещё тогда подполковником. Там же появился ещё ряд товарищей, многие из которых стали уже командирами, начальниками, полковниками. И нас в своё время обучали, когда вот я проходил вот с ними вместе вот эту подготовку как инструктор, о которой вы говорите, о школе.
Они там называли нас «зелёными призраками», потому что я их вот натаскивал так, как меня когда-то натаскивали, тихо передвигаться.
Вот интересный такой штрих. Один капитан, как же его фамилия, Серёжа, Серёжа, а фамилию забыл, мы его Фиксатым звали, вот он и говорит: «Да я вас расстреляю!» Я их подымал ночью по нескольку раз, спать не давал, вот значит как-то он говорит: «Давайте я вас ночью проверю, ночью вы будете проходить, а я вас расстреляю». Я говорю: « Такого не будет».
Всю группу я провожу мимо него. Это же ночь, провести группу в горах. И он, как мы только на километр ушли, начал расстреливать.
Кого расстреливаешь?
И так четыре раза мы повторяли, и он понял, что, даже находясь со мною рядом, можно пропустить этот момент.
Был ещё такой интересный случай: полковник Пугачёв вместе с нами, он был старшим на этом мероприятии, говорит: «Мы сейчас отработали эти вот задачи, а сейчас, Алексеич, ты вот возьми с собой несколько человек, и мы тебя ищем и через пять минут находим, вот здесь, сейчас даём тебе время, пять минут тебе даём, принять то положение, которое ты можешь, чтобы мы тебя поискали, и через пять минут мы тебя находим и после этого идём принимать пищу.
Время было обеденное, не помню сейчас сколько, но обеденное время.
Мы уже все устали, потому что я и ночью гонял их, и вообще, кто только видит меня, помнит очень хорошо. Это можно даже с ними и с кем-нибудь переговорить. Я прячусь. Они меня ищут четыре часа. Я просто обиделся, когда этот товарищ Пугачёв сказал: «Вот сейчас мы тебя за пять минут найдём, пойдём покушаем».
Они меня четыре часа ищут. Но я не один был, нас было четверо. Двоих сразу нашли.
Лев Васильевич Коляда по нашей просьбе просто скрытно наблюдал за всем, что происходит, чтоб мы потом могли всё анализировать и определять ошибки сторон.
– БВС: Вы против упрощенчества, правильно?
– КАА: Да. Вот я сейчас книгу взял, просто смотрю оглавление:
Первая глава:
– Мой взгляд на рукопашный бой (о котором я говорю, что это как раз техника безопасности);
- Очерк истории рукопашного боя;
- Зарождение рукопашного боя;
- Расцвет рукопашного боя;
- Забвение и возрождение рукопашного боя.
Вторая глава:
- Искусство рукопашного боя;
- Определение и классификация;
- Состояние человека в рукопашном бою;
- Идеология рукопашного боя.
Третья глава:
- Физика и человек, человек как объект природы, понятия;
- О степенях свободы самого человека, модельное представление человека (оно уже давно было сделано до нас, не надо там что-нибудь говорить), кинематические пары (это психобиомеханическая система человека).
Четвертая глава:
- Человек и биомеханика, кинематическое описание
- Движения человека, опорно-двигательный аппарат человека, биомеханическое описание движения человека, базовая рабочая модель человека, расчёт центра масс и моментов инерции тела человека, законы механики и рукопашный бой, понятия о силах и моментах, устойчивость и равновесие, законы рычага, выведения из равновесия и заключение, что никакая инструкция предусмотреть не может, заранее предугадать, какие действия тебя ожидают, то есть мы говорим о ситуации.
Если как раз ситуационная задача, значит, тут уже ты стоишь перед каким-то сложным вопросом, это как раз и есть проблема, в которой у тебя появляется цель. В цели этой ты видишь свою задачу и решаешь её в тех вариантах, которые у тебя могут проявиться за счёт твоих знаний.
– БВС: Книга, это уже какой-то итог, к которому вы шли, очевидно, не очень простым путём. Где его начало?
– КАА: Скорее всего, уже в институте или даже ещё раньше, когда служил в армии, где пришлось проходить подготовку.
Там уже обращали внимание на физическую подготовку . Там у меня сформировались определённые знания и навыки, которые позволяли не тратить попусту все силы, а правильно просто или более-менее рационально подходить к своим действиям, чтобы уже выполнить задачу.
А институт дал возможность объяснить, почему ты делаешь так, а не иначе, и дал возможность рационально распределить силы на продолжительное время предстоящей работы: поднять груз, привезти его, укомплектовать его, сложить его, разрушить его. Было и такое. Или что-то сделать, или быстро адаптироваться к изменяющимся условиям деятельности, достигая и живучести, и нужного результата, видеть окружающий мир более объёмно, понятно.
– БВС: А вот смотрите: мало ли мальчишек били - почти всех, мало ли дралось - почти все, но школа Кадочникова всё-таки одна. Школа, это значит, это какая-то теория, это практика, это учителя и ученики, это, как говорят, и место, и время, всё туда входит. Вот когда это образовалось?
– КАА: Ну, в 62-м году я уже работал в нашем Краснодарском военном училище имени Штеменко. И там начальники училища заметили меня. Первым из них был… я забыл его фамилию, а за ним – Козловский.
Заметили меня в училище Штеменко преподаватели офицеры и генерал, поскольку у них есть морская рота, разрешил проводить занятия с моряками, водолазами и боевыми пловцами, а также с офицерами и курсантами училища, которым давал и то, что может быть потребуется всем другим курсантам, чтобы я познакомил их с этой системой. И вот они почувствовали свои возможности, поняли, что в условиях, когда противник превосходит в силе или в численности, с ним можно и сражаться, и побеждать.
Работая с водолазами, я показывал, как бороться под водой, как освобождаться от захвата, как спасать людей, терпящих бедствие на воде. Показал, что может исходить опасность от людей, которые теряют сознание и стараются уцепиться за человека. И спасающий может сам оказаться в объятиях утопающего и потонуть вместе с ним.
И военные люди стали отмечать все эти нюансы, брать их на вооружение и готовиться к соответствующей боевой работе.
Мои занятия в училище Штеменко заметили и офицеры правоохранительных структур. Сначала меня пригласили в Комитет государственной безопасности, потом заметили и пригласили заниматься с сотрудниками МВД - с уголовным розыском и другими службами внутренних дел из милиции.
И потом уже настал черёд тех групп, которые вошли в структуры специального назначения, это группа «Альфа», ОМОН и подобные подразделения, они нуждались в какой-то особенной подготовке, которую они не проходили. Их командование разглядело нужные возможности в моих занятиях, в ходе которых люди постигали возможности использования себя (собственного тела), личного оружия и подручных средств для решения боевых задач и выживания в боевых экстремальных условиях.
Затем пришло время и армейских структур - воинских частей Краснодарского гарнизона, Московского пограничного училища. И все, кто у нас занимались, делились своими положительными впечатлениями, знаниями, встречами, контактами. Сюда к нам, в Краснодар, стали приезжать новые желающие, просили приехать к ним. Многие связывались по почте или техническим средствам связи, просили руководства и помощи.
– БВС: А вы кто по профессии? Кем себя ощущаете и не хотели бы расширить границы своего творчества?
– КАА: Считаю себя учёным воином и педагогом. Принимаю участие в НИОКР, пишу какие-то тексты. Тренирую желающих. Дальнейшее расширение сферы деятельности приведёт к халтуре и профанации. А я так не умею: не люблю халтуры и показухи!
– БВС: Как вы отбирали учеников? Кого из них можете выделить?
– КАА: Учеников я себе не выбирал – никаких тестов, экзаменов или кастингов. Кто пришёл, с тем и работал.
Я старался никому не отказывать - выезжал, встречался и таким образом был налажен контакт с разными подразделениями, с разными регионами, с руководством тех многочисленных государственных структур, которые стремились внедрить у себя данное направление, данные возможности.
А потом я устроился на работу в Краснодарское ракетное училище, продолжая контактировать с воинскими частями и даже теми государствами, которые были заинтересованы в сотрудничестве до распада СССР, а потом, уже после распада, стали приезжать, обращаться, консультироваться. Уже потом открылся широкий путь: из Краснодара круги пользы пошли больше и больше.
Были сняты учебные фильмы и киноролики, которые заняли первое место среди дружественных стран других армий. Первым таким фильмом стал фильм «Ударом на удар», который занял первое место в Белоруссии, в Минске.
Это первый ролик такой, который был снят, можно сказать, почти сразу, без дубля, без финансирования. То плёнки не было, как обычно у нас, то условий не было. Единственно, чего хватало – так это желания и энтузиазма.
Второй фильм сняли, ролик тоже учебный, это ПВО страны, это рассказ о действиях экипажа самолёта при вынужденной посадке на территории противника и о последующем выходе лётчиков на нашу территорию - как они уходили от преследования, как они боролись за свою живучесть и как они переходили границу.
Потом настал черёд полнометражного художественного фильма «Болевой приём». Это боевик, поставленный режиссёром Георгием Кузнецовым на Свердловской киностудии в 1992 году. Там я был и консультантом, и непосредственным участником съёмок.
Фильм предваряет киноролик о боевой схватке небольшой группы отступающих казаков и офицеров царской России с отрядом японцев в самом начале Русско-японской войны. Я считаю, что больше всего было вложено в этот ролик, потому что в работе над ним я был и консультантом, и непосредственным, так сказать, персонажем. И уже до съёмок работа была постоянная, непосредственная, и я показывал работу и с оружием, и с подручными средствами (палка, рогатина).
Я считаю, что мною больше всего сил было вложено в этот ролик. И я показывал всё, что можно было делать и с оружием, и на танкодроме, там, где снимали «Сына полка». Мы на этом танкодроме снимали схватки разновооружённых людей: две винтовки, две шашки, один пистолет, ну и всё такое, что можно было придумать.
Там даже такие пришлось делать трюки, которых режиссёр не чувствовал и не осознавал, даже не подозревал. Это создавало дополнительные трудности. К примеру, надо было шашкой сделать такие движения, которые и в бою уместны, и в фильме смотрелись бы красиво, мне пришлось почти полдня потратить, чтобы Лавров мог шашкой хорошо покрутить именно заданный элемент, а к тому же вставить шашку, не глядя в ножны, так красиво, как будто он действительно являлся хорошим, добрым казаком или есаулом. Вот такие моменты.
А вот их, эти тонкости, режиссёры не замечали, отчего было больно. Пришлось заниматься вроде бы незаметными мелочами, например, видим: форма не та, это не так, пытаемся исправить, а это всех раздражает. Потом уже специалисты смотрели и радовались: там все истинно, да, отработано, значит не зря мы возились.
А вот тут вы как раз задавали вопрос, когда я занялся этим рукопашным боем. Точно я не скажу, наверное, как только родился и услышал песню «Эх, тачанка-ростовчанка», хотел быть Чапаевым, а раз Чапаевым, то значит эти картошки на столе надо было оживить.
Просто присматривался и видел, где, откуда можно взять тот нужный, необходимый момент по фехтованию, по истории военного искусства, по всему, всё, всё.
Это же объём.
Нельзя взять плоско какой-то материал, а следует его рассматривать в объёме. И только в объёме тогда можно сработать тем, что тебе будет необходимо.
А так его не поднимешь. Тем более, что не для красоты всё это собирали, а для дела. Хоть я и не думал, что когда-то мною где-то кто-то заинтересуется. Делал для себя. Именно для себя. Этим жил. Каждый пишет книгу сам, и поэтому книга жизни у каждого своя. То есть её нельзя написать кем-то. Поэтому и смотришь.
Для того чтобы поднимать какой-то вопрос, значит надо знать государство, в котором ты живёшь. Надо знать астрономию для обсервации и непосредственной корректировки, привязки, это и в военном деле, и в гражданском, это есть и топография, это есть география, это есть геодезия, это есть математика, это есть все те школьные предметы или учебники, школьная программа и межпредметная связь, которые позволяют в нужный момент просто что-то вспомнить, и оно тебе непременно поможет.
А кто из учеников лучший? Всех люблю, никому оценок не ставлю. Я готовил их к реальной боевой работе, за которую им ставит оценку Родина и командование. Горжусь теми, кто заслужил боевые награды: не зря пахали!
Я говорил, что никого не выбирал. Правда, некоторые сами отсеивались. Но вот эти, которые в итоге у меня остались, оказались самыми лучшими, они прекрасно себя вели, упорно занимались. У меня нет никаких вообще претензий. Ни к кому. Все очень приятные по-человечески, а главное, очень талантливые и умные воины. Я очень доволен и рад, что мы с ними познакомились и подружились.
– БВС: Вам не кажется, что появилось очень много мастеров РС РБ, которые считают себя авторами нового стиля?
– КАА: Не кажется – это так и есть. К сожалению, русские мастера единоборств очень разобщены, свои амбиции они порой любят больше жизни, больше общего дела.
Все мои попытки сплотить и объединить братьев-бойцов наталкивались на вопрос, а зачем это Кадочникову нужно? Он, наверное, хочет всех подмять и лично верховодить-атаманствовать. Да кто он такой? Один из нас. Да, я один из нас. И мы перед угрозой общей опасности должны сплотиться под общим знаменем русского боевого искусства без указания какой-либо фамилии.
Хотя наша история богата достойнейшими фамилиями и именами, которые мы можем начертать на нашем знамени: Илья Муромец, Пересвет, Александр Невский, Александр Суворов и многие другие. Наши западные, восточные и местные либеральные оппоненты в этом отношении работают как слаженные команды, которые выстраиваются в боевые порядки по первому сигналу.
Наши разрозненные бойцы такого влияния на общественные процессы, на событийный ряд не имеют. Мы должны выстраивать своё морально-духовное влияние на общество, на власть и на всех заинтересованных людей.
– БВС: А как вы относитесь к тем мастерам, которые именно себя, а не вас считают истинными хранителями и продолжателями русского боевого искусства?
– КАА: Мне кажется уместным вспомнить один старый анекдот:
«Железная дорога без конца и без края, что влево, что вправо. Сидит на рельсе Чапаев, думу думает. Подходит Петька: - Василий Иванович, ты не подвинешься?»
Я считаю, что русское боевое искусство – это такое огромное и многогранное пространство, что в нём найдётся место для многих школ, стилей, течений, тем более, если они во многом похожи или идентичны. Это и не удивительно. Ведь конструкция человека за последние десятки тысяч лет не изменилась, а бои раньше были исключительно рукопашные.
Бойцов было много: каждый мужик был бойцом, и каждый что-то постигал, что-то открывал без учителей, ссадинами и синяками на собственной шкуре. Был ли он автором собственной школы? Нет, автором методики стал тот, кто собрал, систематизировал, объяснил и научил других. Таких было немало, не хочу с ними заниматься перетягиванием одеяла – это не мой скандал, лучше вместе сохраним наши достижения для внуков.
Я бы взял за образец спортивную гимнастику, где в рамках одного вида спорта существует множество авторских элементов: петля Корбут, перелёт Ткачева, вертушка Диомидова, крест Азаряна и т.д.
А какие люди были в истории РС РБ: Булочко, Спиридонов, Ощепков, Харлампиев! А созданный ими вид боевого искусства называется САМБО. Имена создателей остались только в памяти специалистов и энтузиастов.
Интересно: а кто-нибудь из моих «конкурентов» хоть раз когда-нибудь слышал лично от меня или, может, прочитал, чтоб я сказал: «стиль…», «школа…» или «система Кадочникова»? Нет, такого не было! Только «Русский стиль»!
Я не хочу никому противостоять – ни человеку, ни его «системе». Как сказал Андрей Платонов: «На собранья я не хожу и ничего не член!»
В русском боевом искусстве всем места хватит. История всех расставит по местам. Чьё-то место окажется на пьедестале, а чьё-то – в зрительном зале.
– БВС: Про людей творческих говорят, что заканчиваются они, извините, с потенцией.
– КАА: Не путаете ли вы потенцию с потенциалом? К тому же люди успели придумать такие средства, что потенция до последнего вздоха не заканчивается. И нельзя забывать, что главная наша потенция – в голове.
А творческая импотенция у любого творческого деятеля видна с первых шагов. Какие-то неуклюжие движения, отсутствие гармонии, удовольствия от работы показывают, что человек импотент, ничем не поможешь. Молодой, старый — без разницы. По первому же опусу могу сказать: не фурычит – и всё! Иди уже, пиши мемуары.
– БВС: Мне кажется интересным ваш способ получать знания, использовать знания для формулирования цели и определения пути её достижения. Цели и пути у всех разные. Каждый выбирает свой путь. А вот пути познания мира у всех одинаковые. Или нет? Вот как вы набираете материалы?
– КАА: Я черпаю знания отовсюду. Увижу, например, журнал детский «Юный художник», это серьёзный журнал, и впитываю всё. Там вы найдёте всё, вплоть до сугубо научных вопросов строительства мостов, там сопромат весь! А сколько у нас в России уникальных книг! Вот вы знаете, что вам нужно собрать. Вы же всё в кучу не собираете, а берете именно то, что нужно именно вам именно в этот момент.
Астрономия нам позволяет увидеть Полярную звезду. Увидели мы эту Полярную звезду, привязались к ней, и теперь, где бы мы ни были, мы уже чувствуем, что мы под Полярной звездой.
Для того чтобы определить время, смотрим на Большую Медведицу и видим, какое у нас время.
Есть формула: 55,3 минус удвоенная сумма номера месяца, плюс условный час и плюс день, выраженный в десятых долях, где три дня есть одна десятая. Так вот, если мы посчитаем по Полярной, то есть по созвездию Большой Медведицы, то мы можем определить время.
Полярная звезда даёт возможность нам обсервировать себя в том пространстве, в котором находимся.
То есть время и пространство мы можем узнать и притягивая, как вот вы сейчас говорите, тот журнал или другой.
Мы видим ориентир в том направлении, в государстве, в котором мы живём. Мы имеем свою мать, которая нас вырастила, которая нам дала жизнь, и страну, где мы находимся, которая нас кормит. Но мы также должны защищать её, раз она нам все даёт, она не может только защитить. А все остальное, как вот мы сейчас рассматриваем ситуации: появляется ситуационная задача, и появляется проблема, и она выражает нам цель, которую мы с помощью этой задачи начинаем решать, но без знания привязки, где вы находитесь, в каком месте, куда идти, какое время, сколько вы себя ощущаете в пространстве материальной точкой со всеми координатами.
– БВС: А вам не кажется, что это всё слишком трудно для понимания?
– КАА: Кажется. Я и сам понимаю далеко не всё. Но вы спрашиваете, и мне приходится что-то отвечать.
Мир вообще наполнен загадками и чудесами. И не надо его упрощать и рационализировать. Надо принимать его целиком, вместе со всеми непостижимыми нюансами, а не искать ответ в конце учебника.
– БВС: То есть вы полагаете, что в нашей жизни присутствует мистика?
– КАА: Это вы сказали. А я имел в виду просто постижение детьми и молодыми людьми окружающего мира. А мистика – это всего лишь физика тонкой материи.
– БВС: Значит, всё-таки мистика есть?
– КАА: Существует всё, во что искренне веришь. А то, во что ты не веришь, для тебя не существует, но навредить может.
– БВС: Что планируете дальше делать?
– КАА: Мне поздно искать что-то новое. Не скажу, что я всё ещё в поиске нахожусь.
Мой жизненный вектор определён в детстве и уже не поменяет своего направления – просто времени не хватит. Хоть отваги ещё до… и больше. И хоть у меня есть ещё какие-то идеи, какие-то мысли, но, к сожалению, мысли двигаются лучше, чем тело. Я иногда ещё что-то пописываю, но без угрозы продолжения творческой карьеры - ничего готового так, чтобы положить на стол, у меня нет.
Боюсь, даже для того, чтоб упорядочить все мои записи и чертежи, не хватит ни времени, ни сил.
Надеюсь только на сына, внука, да на вас, мои друзья-соратники…
– БВС: Алексей Алексеевич! Большое спасибо за обстоятельный разговор.
– КАА: И вам спасибо за хорошие вопросы и отсутствие вопросов провокационных или неприятных.
Заканчивая это интервью, нельзя не отметить, что наш собеседник почти ничего не сказал о своих личных заслугах и достижениях. Обошёл вниманием и свои паранормальные способности. Видимо, боялся, что не поверим.
А как ему не верить, если всё – правда! Вот грядёт его 90-летие, соберутся люди чествовать патриарха русского боевого искусства, будет сказано много добрых слов, съедено много вкусной доброкачественной пищи.
И нам с вами будет не стыдно признаться, что лично знали этого Художника боевых искусств.
Это интервью, по всей видимости, станет нашей завершающей работой об Алексее Алексеевиче и его школе. Все имевшиеся у нас материалы мы уже обработали и опубликовали. С уверенностью можем утверждать, что без многообразной подвижнической, самоотверженной деятельности Алексея Алексеевича процесс боевой подготовки российских воинов был бы гораздо беднее и бледнее. Да и развития русского боевого искусства, вероятно, не было бы. Время доказало живучесть его дела. Светлая память выдающемуся Мастеру!
Но подводить итог делу Мастера мы не станем: школа его живёт и развивается.
Помним, пока живы.
В. Беднов
В. Черевичный
Фотогалерея Алексея Алексеевича
Будем рады Вашему отклику или комментарию
Оставить комментарий
Издательство Неоглори
Официальный издатель Системы Кадочникова
ОГРН 1062312033740
350000, г. Краснодар, ул. Карасунская 180
Бесплатный телефон: 8-800-500-09-58
E-mail: support@neoglory.ru
© Все права защищены
Политика обработки персональных данных
Оферта





















































































































4 комментариев к
Вот это и есть человек «на вес золота». Светлая память Алексею Алексеевичу. Пусть его знания встают на полки рядом с трудами Суворова, Ломоносова, Бернштейна и т.п. для передачи знаний нашим потомкам.
Бесконечное благодарен «Деду» Кадочникову за его боевую науку, которая впоследствии неоднократно выручала в самых безнадёжных ситуациях. Его Творческое наследие ещё предстоит изучить лучшим экспертам. Его вклад в формирование систем самозащиты невозможно переоценить.
Великий Русский Воин, Наставник Люда Военного, Ученый, Учитель, Изобретатель. Наш СТЯГ, наш СПАСИТЕЛЬ!!!
Светлая Память нашему недооцененному Герою Великой Страны, Алексею Алексеевичу Кадочникову!!!
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ Р.Б. АЛЕКСЕЮ